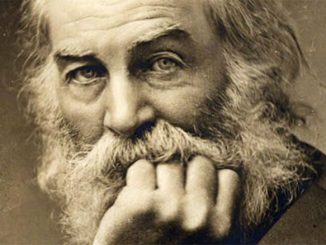Cегодня я хочу познакомить читателей с замечательным Чикагским поэтом и прозаиком Петром Шмакововым
Вопрос: Как в общих чертах вы можете охарактеризовать своё творчество?
Ответ: Я преимущественно поэт. Но я пишу и прозу, хотя и реже. Кроме собственно стихотворений, я пишу стихотворения в прозе, а также прозаические миниатюры, рассказы, написал роман. Ещё я перевожу англоязычную и польскую поэзию. Как переводчика, меня интересует поэзия двадцатого века.
Вопрос: Как давно вы пишете, когда ощутили себя поэтом и писателем?
Ответ: Пишу я время от времени всю жизнь, лет с восьми наверное. Но я долгое время не относился к своим литературным опытам серьёзно и написанное не хранил. Только в возрасте сорока одного или сoрока двух лет до меня дошло, что моё писательство – это нечто стоящее внимания, и я начал работать над текстами и хранить написанное. В силу жизненных обстоятельств и особенностей характера, я человек довольно замкнутый и малообщительный, попыток печататься или как-то издаваться я долгое время не предпринимал.
Вопрос: Ну, а где всё же можно ознакомиться с вашими произведениями?
Ответ: Во-первых, почти всё мной написанное можно прочитать в интернете на моих страницах стихи.ру и проза.ру. Московское издательство “Водолей” выпустило несколько моих книг. В чикагских книжных магазинах их купить вряд ли возможно, я автор малоизвестный, но их можно заказать в интернет-магазинах. Лучше всего поставить на поиск название первой моей книги “Бусы на шею ночи”, и в ответ вы получите названия интернет-магазинов, в которых она и другие мои книги продаются. “Реклама” однажды уже напечатала подборку моих стихов, кажется в апреле 2017 года. Харьковский литературно-художественный журнал “Славянин” в 2018 году опубликовал стихотворения в прозе.
Вопрос: Можете ли вы в двух словах обозначить тематику ваших произведений?
Ответ: Попробую. Ну, во-первых, я представитель, скажем так, тёмной поэзии. Моя муза – муза трагедии. Почему это так, я не знаю и сам. Не раз я пытался высветлить палитру, но не получалось. Дело даже не в обстоятельствах моей жизни, а, скорее, душевной склонности. Я пишу только о жизни и смерти, никаких второстепенных тем. В моей поэзии и прозе присутствуют метафизические и эзотерические мотивы и ассоциации. Довольно много внимания я уделил, особенно в романе, Евангельской истории, но не её догматическому, церковному или богословскому аспекту, а чисто человеческому. Роман “Предание” представляет собой многоплановое сочинение. В нём описывается необычная история, являющаяся основой для некоторых довольно-таки еретических предположений, связанных с Евангельским сюжетом.
Вопрос: А вот, кстати, к теме эзотеризма. Ваш псевдоним “Пётр Шмаков” имеет отношение к известному русскому эзотерическому писателю и философу начала двадцатого века Владимиру Шмакову?
Ответ: Книги Владимира Шмакова я читал и одно время действительно интересовался его идеями. Но мой псевдоним возник случайно и, скорее, в шутку, хотя и правда имеет к нему отношение. Я принёс свои последние стихи почитать подруге, мнением которой дорожил. Я просил не афишировать моё авторство. Она начала читать и тут к ней подошла дочка-подросток и спросила, кого это она так увлечённо читает. А надо сказать, как раз перед моим приходом один наш общий знакомый заморочил ей голову пересказом идей Владимира Шмакова. Поэтому моя подруга, в голове которой застряло его имя, ответила дочери, что это один харьковский поэт по имени Пётр Шмаков. Я рассмеялся и с этих пор решил писать под именем, которым она меня окрестила.
Вопрос: Кто ваши любимые поэты?
Ответ: Нелегко дать ответ на этот вопрос. Я люблю многих поэтов. Пожалуй, есть только два поэта, у которых мне нравится всё: это Осип Мандельштам и австрийский поэт начала двадцатого века Георг Тракль. Что до общей тенденции, то я стараюсь учиться и набираться опыта у русских поэтов Серебряного Века.
Из современных русских поэтов я выделяю Иосифа Бродского, Алексея Цветкова, Ольгу Седакову. Очень интересен и близок мне по духу московский поэт, долгое время живший в Чикаго, а сейчас вернувшийся в Москву Вадим Молодый. Упомяну ещё своего земляка харьковчанина Сергея Александровского, прекрасного поэта и переводчика.
Вопрос: В заключение расскажите немного о себе.
Ответ: Я родился в 1950 году в Харькове и никуда из Харькова не уезжал до эмиграции в 1995 году. Уехал я в довольно тяжёлый для страны и её граждан период и не столько из идеологических соображений, хотя и рассорился кое с кем из харьковской администрации по причине махровой коррупции, к сожалению, этот сорняк из самых живучих, сколько потому, что уже не выживал там физически. Появилась возможность воссоединиться с родственниками в Чикаго, и я ею воспользовался.
В Харькове я закончил медицинский институт и работал врачом до самого отъезда. В Америке подтвердить свой диплом не получилось, да я и не очень пытался. Первые пять лет прошли довольно трудно. Я всё это время работал массажистом, что и продолжаю делать. Работа не занимает полностью моё время и внимание, оставляет место для творчества. Семьи у меня нет, так что я сам себе хозяин.
* * *
Ступенями мая уходим к озёрам.
Что может быть краше
весенней надежды?
Но слышен крик птичий,
крик смерти, в котором
безумия ноты горят, как одежды.
Нас небо весеннее ложью ласкает.
Сердец обворованных стук всё слабее.
И марево осени змеем взлетает,
и ветром холодным от озера веет.
О, как мы устали, как время нас мучит.
Какою мы узкой ступаем тропою.
Кто судьбы нам сплёл
и чему он нас учит?
Убийца осенний идёт за тобою.
О смерти поёт безымянная птица.
Ребёнок лепечущий мимо прошёл.
Весною последней, последней страницей
к нам ангел разлуки без стука вошёл.
* * *
В окнах, занавешенных
сетью мокрой пыли,
тёмный профиль женщины
наклонился вниз.
А.Блок
Из окна далёкого в оборотне-городе
тёмный профиль
женщины память донесла,
жизни этой нынешней,
нереальной, вспоротой,
все следы случайные снегом замела.
В оборотне-городе были мы замучены
всякими невзгодами, ворохом проблем.
Смертью, как учителем,
мы теперь научены,
знаем доказательства главных теорем.
В оборотне-городе были стёкла тонкие,
профили точёные в сети дождевой.
Жизни наши хрупкие,
жизни наши ломкие
промокали насквозь кровью и водой.
Из окна далёкого
профиль твой мерещится,
тёмный профиль плавится,
словно на огне.
Пусть же главный выдумщик
напоследок тешится
и окно далёкое вдруг всплывёт во сне.
Мы убоги разумом, как щенки скулящие,
и представить трудно нам
высших сил расчёт.
Вот и снятся за полночь
призраки бодрящие,
время то сжимается, то рекой течёт.
Мокрой пыли шелест в прошлом,
в настоящем ли?
Дождик моросящий, профиль за окном.
Что же мы, убогие,
с жизнью напортачили,
если профиль женщины оказался сном?
* * *
Там, где ширь распахнулась
Великих Озёр,
жизнь и смерть заплелись
в неизбежный укор.
Всё имеет свой голос, пророчит, зовёт
разобрать крики птиц,
плеск мелеющих вод.
Барабанит ли дождь по сырому песку,
нагоняет ли ветер тупую тоску,
отзвук нами забытых, живых голосов
липнет к сердцу слюной
неразборчивых слов.
Каждый шорох с объятьями
лезет на грудь,
каждый стук барабанит:
– Меня не забудь. —
И от этого хора до самых небес
вырывается к Богу свистящий отвес.
Смерти нет,
есть безумный порыв в никуда,
есть летящие с воплем и стоном года.
И на крошечной льдине
в ненастную ночь
я несусь вслед за ними
кому-то помочь.
Я несусь по Великим Озёрам на юг
или север, но главное, выполнить круг
и вернуться туда, где мой дом и любовь,
где лукаво у Вечности поднята бровь.
Очень трудно понять по пути голоса,
что вдогонку кричат о своём, о больном.
Что сказать им в ответ?
Как дремучи леса!
Заблудиться раз плюнуть,
и где он – мой дом?
У Великих Озёр есть великий секрет,
есть загадка с намёком на гибель души.
Тучи виснут над ними, как дым сигарет.
Курит Бог-невидимка и мёртвых смешит.