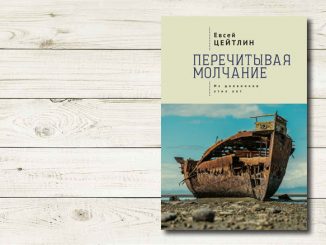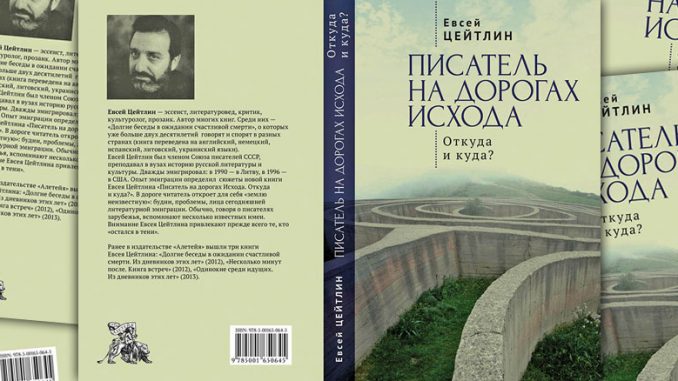
Свет от людей — Новая книга Евсея Цейтлина
Евсей Цейтлин. Писатель на дорогах исхода. Откуда и куда? Беседы в пути. Санкт-Петербург: Алетейя, 2020. 329 с.
У всех людей есть выдающие их слова, о которых сами они не подозревают, так глубоко застряли они в подсознании. У Цейтлина одно из таких слов — свет. В стихах Эвелины Ракитской он увидел тревожный отсвет летних пожаров (с. 54). Вспоминая своего выдающегося друга Ванкарема Никифоровича, он написал: “…этот удивительный человек излучал особый свет… то был свет добра… Всё пройдет? Всё, кроме памяти. Всё, кроме явственного ощущения этого подаренного нам света” (с. 102-103). Один из очерков в книге называется «Свет издалека (Сергей Корабликов-Коварский)”, а другой (интервью) — “Выйти из тени (Семен Резник)”. Есть и глава “Сквозь далекие огни (Лиана Алавердова)”.
Мы ценим в других то, что считаем добродетелью в себе, или то, чего тщетно добиваемся в жизни. Из характеристики Никифоровича: “Никогда и ни о ком он не сказал дурного слова. И это не было предусмотрительным проявлением конформизма. В каждом человеке Ванкарем видел то лучшее, что определяло его жизненное назначение” (с. 103). Я ни разу не встретился с Цейтлиным, хотя Чикаго, в котором он живет, через озеро, меньше, чем за час лёта от “моего” Миннеаполиса, но читал почти все его книги. Я думаю, что говоря о своем покойном друге, он, не ведая того, нарисовал свой автопортрет. Но вернемся к главной метафоре.
Свет, который Цейтлин бросает на окружающую жизнь, возник из его доброго отношения к людям и из ненаигранного, а идущего из глубины сочувственного интереса к ним. Под его взглядом и под его пером лучшее в человеке выходит наружу, хотя все, конечно, остаются самими собой. Одни столь скромны, что трудно поверить в их существование. Другие напористы и охотно “показывают товар лицом”, но диалог повернут так, что эти черты не уменьшают привлекательности рассказчика.
То, что Цейтлин умеет задавать главные вопросы и знает, как надо вернуться к ним, не секрет для тех, кто читал теперь уже широко известную и переведенную на несколько языков книгу “Долгие беседы в ожидании счастливой смерти” о литовском драматурге Йокубасе Йосаде. В книге, о которой идет речь здесь, искусство слушать и понять доведено до высокoй степени совершенства. Цейтлин говорит об одном из своих персонажей: “… послушаем… И — не будем перебивать” (с. 133). Красно говорят многие. Слушать и не перебивать — редкое искусство.
“Писатель на дорогах исхода” — это собрание интервью (в основном), очерков и некрологов. Единство стиля в том, что касается авторской речи, удивительно. Кажется, что все главы написаны в одно и то же время, а между тем, самая ранняя помечена 1992 годом, а самая поздняя — 2019-ым. Беседы с Йокубасом Йосаде вышли в 1996 году. Они относятся к недавней книге, как роман к серии новелл. Цейтлин расспрашивает пишущих людей (эмигрантов), как вжились они в новую среду (и вжились ли), раскрепостила ли их эмиграция (чаще в Америку), что они думают о месте русского писателя в странах, где по-русски не говорят не только их соседи и сослуживцы, но порой и дети; кому адресованы их книги в этой языковой полупустыне, но, конечно, еще об одном! Эмигрировали-то почти все его герои как “лица еврейской национальности” (нации такой не было, а национальность была). Поэтому в воспоминаниях о годах, проведенных в России, неизменно и неотвратимо возникал разговор об антисемитизме. Но о великих вопросах ниже. А пока замечу, что среди собеседников Цейтлина оказалось несколько незаурядных поэтов. Хорошие стихи — такая редкость, что обидно было бы не процитировать несколько строф.
Эвелина Ракитская: “Страна моя, пустынная, большая… / Равнина под молочно-белым днем. / Люблю тебя, как любит кошка дом, / Дом, только что лишившийся хозяев. // И странное со мной бывает чудо —/ Когда-то кем-то брошенная тут, / Мне кажется, я не уйду отсюда, / Когда и все хозяева уйдут” (с. 54). Читая эти строки, я не мог не вспомнить стихотворение Людмилы Алексеевой, поэтессы второй волны: “Старый кот с отрубленным хвостом, / С рваным ухом, сажей перемазан, / Возвратился в свой родимый дом, / Посветил во мрак зеленым глазом. // И, спустясь в продавленный подвал, / Из которого ушли и мыши, / Он сидел и недоумевал, / И на зов прохожего не вышел. // … // И, спиной к сырому сквозняку / Он свернулся, вольный и надменный, / Доживать звериную тоску, / Ждать конца — и не принять измены”. “Мне кажется, я не уйду отсюда, когда и все хозяева уйдут”.
Наталья Дорошко-Берман: “О, родные мои, не зовите меня / В те чужие далекие страны. / Пусть останусь одна, пусть медвежья страна / Так обнимет меня, что изранит. // … // Пусть сегодня тюрьма, а назавтра сума, / Пусть живу в ожиданье погрома, / Я печали свои выбираю сама, / Я счастливей, я все-таки дома” (с. 73). “Всё-таки дома”, но в конце концов обе эмигрировали в Израиль. Трудно прожить весь век спиной к сырому сквозняку. Лев Ленчик через долгие десятилетия после отъезда из России, конечно, не забыл страну, когда-то оставленную без раздумий и сожалений, и позже от ностальгии излечивают воспоминания: “Наверно еще полегчает, / когда позабудешь всерьез / зрачки неостывших окалин / и тени бегущих колес…// и слов уцененную ясность, / и сброд опортреченных рож, / и всё, с чем ты жил безучастно / и с чем подыхал не за грош…// (с. 115). Многие, очень многие из нас, угловых жильцов, спрашивали, как Рудольф Фурман: “… А я неблагодарный сын Отчизны, / Я в ней с рожденья не ее герой. / Часть лучшую отпущенной мне жизни / Она давала знать, что я изгой” (с. 136). И напоследок: “Я только боль возьму с собой, / отнюдь недобровольно! / О вы, что гнали на убой / моих родных, меня с семьей… / Я ухожу. Довольно” (Лиана Алавердова, с. 232).
Любят поэты признание: радостно управлять чувствами огромного зала, а то и целого стадиона (там и буря оваций, и “вставанье” кто-нибудь “организует”), но и на пирушке холостой неплохо почитать что-нибудь новое, например, “Роняет лес багряный свой убор”. И всё же послушай, Катулл, великий и несравненный римлянин:
Гай Валерий, не ходи на званый вечер.
Лучше дома поработай над поэмой.
Эти встречи, эти речи, эти плечи…
Эти тени над глазами…
Эта тема…
Я любил ее не так, как все, иначе.
Я люблю ее, мою любовь не выжечь.
Я люблю и о прошедшем плачу.
Я любил ее и потому не выжил
(Рафаэль Левчин, с. 169).
“В дружеском застолье Рафаэль… был тих, почти незаметен”, но не так много осталось среди нас людей, “бормочущих строку ‘Упанишад’” и приветствующих Аристофана как близкого и дорогого человека. Остроумный, блестящий, многосторонний, он умер в 2013 году. Не пропустите его книгу “Старые эфебы”.
Пока есть поэты, жива и любовная лирика: не с Катулла началось, не нами и кончится. То “Сквозь пургу в двух шагах от апреля / Проплывает строка о любви / Поднимается до куполов / Обретает мистический образ / И в бездонную впадину неба / Проникает все дальше и дальше / Оставаясь строкой о любви” (Гари Лайт, с. 238), то “Когда солнце уходило спать, / твоя рыжеволосая голова / клонилась на мои плечи огнем / и оставалась в моих ладонях. / Цвет твоих волос обжигал меня, / руки мои согревались / и перебирали соломенное пламя” (Игорь Михалевич-Каплан, с. 249).
Ефим Чеповецкий, автор несравненных и, к счастью, широко известных книг для детей, был грустным, мудрым Шутом, каким Шуту и полагается быть. Трудно поверить, что и он оказался в Чикаго. “Учась премудростям весь век, / Узнал я в беге дней, / Что я снаружи человек / И весь внутри — еврей” (с. 283) и еще: “Наши корни в Галилее, / Это в Библии дано… / Люди все вокруг евреи, / Только из дому давно” (с. 284). Я начал со стихов, потому что, хотя в книге они занимают немалое место, всё же она не о них, и я боялся, что в серьезных разговорах они не будут услышаны, ибо у хорошей поэзии тихий голос, и заглушить его ничего не стоит.
Итак, другие берега. Как живется или как жилось на них творческим людям? Многих героев Цейтлина давно нет в живых. Кое-что не зависит от берегов, ибо, как заметил Борис Кушнер, “производная синуса, она и в Африке косинус” (с. 37). В его устах ссылка на производную не была виньеткой, украсившей речь гуманитария, что-то понимающем в функциях. Кушнер был (теперь, к сожалению, и о нем приходится писать был) математиком, а “еще” поэтом, переводчиком стихов и неукротимым борцом с антисемитами. И в России некоторые из собеседников Цейтлина занимались сочинением стихов, рассказов и даже романов “по совместительству”. А уж в иноязычном мире, что и говорить! Пиши, издавай за свой счет, рассылай не таким уж многочисленным знакомым, которые могут от книги с надписью избавиться (хорошо, если не выбросят, а передарят: знаю по своему опыту), и забудь слово гонорар.
Человек, начавший читать эту книгу с оглавления, если он не профессиональный знаток эмигрантской литературы, скорее всего растеряется: “Кто эти люди, судя по всему, незаурядные, написавшие много хорошей прозы и хороших стихов? Впервые слышу!” Конечно, Аксенов, Довлатов, Бродский, еще, быть может, три-четыре имени. Но вот их как раз в оглавлении нет, и пропущены они не по недосмотру. Всю жизнь Цейтлин, прекрасно умеющий рассказать и о знаменитостях (например, у него есть книга о великом литовском поэте Донелайтисе), стремится вырвать из темноты имена и книги, которые без него в темноте и сгинули бы.
К сожалению, чтобы вызвать к себе интерес за пределами самого узкого круга, нужен скандал (желательно громкий) или пусть небольшой, но активный круг почитателей, в идеале почитательниц (“салон”). Между автором и публикой должен быть посредник. В эмигрантских газетах “нет отделов критики и библиографии. Понятно, нет и системы в освещении литературной и художественной жизни” (с. 99). Нет “оперативной” критики и в России, а есть премии и ярмарки. Без шума и “раскрутки” к читателю не пробьешься. Цейтлин рассказывает, что в 2013 году (мы снова в Чикаго) умер эмигрант, врач Роман Вершгуб. Оказывается, он писал превосходные рассказы, но упорно отказывался их печатать, удовлетворяясь тем, что показывал их двум-трем знакомым. Вдова Вершгуба всё же издала сборник покойного мужа. “А какой тираж сборника?” — “Пятьдесят экземпляров”. — Так мало…” — “Так много. Тридцать книг валяются у меня в шкафу — никому не нужны” (с. 178). Вот и вся слава, прижизненная и посмертная.
Некоторые авторы, только в эмиграции освободившись от цензуры и прочей советской мерзости, смогли написать свои главные книги. Кое-кого теперь охотно печатают и в России (и даже, если затронуты острые темы, читают). Среди них авторы серьезнейших исторических исследований Семен Резник, Владимир Порудоминский и Анатолий Кардаш (Аб Мише); Кардаш успел написать начатый еще “дома” гигантский труд об истории еврейского народа. Независимо от меры признания в России, эти люди уже не мыслят (не мыслили) себя “там”: прошли долгие годы, выросли дети и внуки, да и не слишком уж тянет в нынешнее “туда”. Но у каждого своя судьба. Ирина Чайковская преодолела массу трудностей, печатается по обе стороны океана и говорит: “Не считала никогда, что это эмиграция. И даже если придется остаться в Америке навсегда, душой я живу в России. У нас с мужем два гражданства, я связана с Россией многими нитями и их не обрываю” (с. 120).
Книга Цейтлина неслучайно называется “Писатель на дорогах исхода. Откуда и куда? Беседы в пути”. Лейтмотив его интервью и заметок: “Мы всё еще идем по символической пустыне”, — и дело не в том, что его собеседники — почти без исключения евреи, хотя программное заявление Цейтлина высказано с абсолютной ясностью: “Еврейские мудрецы не сомневались: в каждом поколении продолжается наш Исход из Египта. Вот и мы, российские евреи, всё еще идем по символической пустыне” (с. 105).
Конечно, весь мир — тюрьма, и весь мир — пустыня, но эмиграция, хотя и в ней производная синуса — косинус, — пустыня в квадрате, и в ней особенно трудно выдержать экзамен не только на прочность, но и на порядочность. Говорит Семен Ицкович, доктор технических наук, ставший в Америке влиятельным русскоязычным журналистом. Его возмутили люди неблагодарные, даже подлые: “Не зная Америку, ругают ее. Вопреки тому, что говорили когда-то в американском посольстве, бысстыдно восхваляют советскую жизнь. Ничего в ней не стоили, а сейчас слагают о себе легенды. Невежды выносят свои суждения. Неграмотные пытаются учить. Возносят ‘великую русскую культуру’, к которой никогда не были причастны…” (с. 106). А бывает, как говорит Цейтлин, и так: “Кое-кто, попав в эмиграцию, придумывает себе ‘красивую’ биографию (иногда такое мифотворчество нечаянно и трагично — люди задним числом как бы реализуют несбывшиеся мечты, неосуществленные дарования. Но бывает иначе: человек, увлеченный новым днем, просто отмахивается от того, что было вчера” (с. 95). Он говорит это в связи с тем, что еще одному выдающемуся журналисту Ванкарему Никифоровичу ничего не потребовалось менять в главном: “Наоборот — надо остаться собой…” (там же) — непростая задача, когда идешь по пустыне. Никифорович, как говорит Цейтлин, остался в Америке хранителем культуры.
Прошлое можно поменять, приукрасить, мифологизировать и даже постараться забыть, но есть прошлое, которое висит на нас, как жернов, и не сбросить его, пока мы живы. В нем погромы и наветы всех веков, зверство околоточных, атаманов и советских властей (от которых мы и спасали себя, своих детей и неродившихся внуков) и самое страшное — Катастрофа, гибель евреев в оккупированных районах. Двое человек погрузились в этот кошмар. Давид Гай, плодовитый и успешный писатель, автор “Десятого круга”, говорит о минском гетто: “Я написал повесть за 37 (!) дней, совмещая с работой в газете. Дольше не смог бы писать физически и психологически: изнемогал под действием ночных кошмаров, почти каждую ночь меня расстреливали, закапывали живым в яму, я прятался в “малинах”, убегал от полицаев… Дантов ад бледнеет перед существованием в гетто… Самая, наверно, страшная глава — о детях” (с. 156-57). Не 37 дней, а вся жизнь Самуила Эстеровича была сплошным кошмаром; война застала его в Вильнюсе, и опять тот же образ: “Нам пришлось пройти через воистину дантовские сцены” (с. 250). В конце жизни (он умер в 1985 году) он написал воспоминания. Его дочь “дописала и отредактировала…, перевела на английский, издала их в США небольшим тиражом” (с. 253). Вы еще не забыли, что такое небольшой тираж и какова его судьба? К сожалению, невозможно вкратце пересказать потрясающий рассказ Сергея Корабликова-Коварского. Он тоже начинается в Вильнюсе.
Среди вопросов, которые задавал Цейтлин, есть и такой: “Что вы думаете о возможностях и судьбе русской эмигрантской литературы?” Приятно начать на мажорной ноте. Два десятилетия выходили в Торонто-Петербурге сборники “Русские евреи в Америке”. Затертое слово — подвижничество, но то, что делал Э. А. Зальцберг, было скромным и трогательным подвигом. Он редактировал (то есть искал авторов, много писал сам, переводил, комментировал) и полностью оплачивал все выпуски, а ни капиталистом, ни помещиком этот пенсионер не был. Профессиональный гидролог (кандидат наук) и профессиональный пианист, он сделал больше, чем целый институт, для сохранения памяти о сотнях людей, от давних переселенцев в Аргентину до современных художников (архитекторов, скульпторов) и великих музыкантов прошлого. Он умер в этом году. Мы не в СССР. Незаменимые люди у нас есть.
Ниже я приведу без комментария несколько высказываний. “Взгляд из Америки на прошлое и настоящее России заставляет по-новому осмысливать многое — в том числе и историю еврейства. Пасынки превращаются в сыновей Израиля, Европы и США” (Лев Бердников, с. 93). “Община наша эмигрантская не растет, а как бы даже уменьшается, становится менее заметной, поскольку стареет и мало подпитывается уходящей в американскую жизнь молодежью. Соответственно стареет и эмигрантская пресса. Авторов меньше, читателей меньше, естественный процесс. Но для оставшихся читателей эта пресса тем более необходима, так что в ближайшее десятилетие она, наверно, еще продержится” (Семен Ицкович, с. 113). О журнале “Чайка”: “Аудитория неизмеримо выросла со времен бумажного журнала, и львиная доля читателей сегодня в России. Нас также читают молодые и не очень молодые люди из Америки, Германии и Израиля, Украины и Казахстана. Гугл говорит: у нас есть читатель даже в Кении” (Ирина Чайковская, с. 125).
Семен Каминский — издатель. “… издание книг для меня — это и хобби, и бизнес. И “философия”: таким образом борюсь с мировой энтропией… Плохая литература сгинет сама по себе. Есть другая проблема: хорошая литература мало кому теперь нужна, и вот это огромная беда” (Семен Каминский, с. 175). “Где сегодня рубежи литературы, создаваемой по-русски? Она куда ниже границ РФ. Исцелясь от шизофрении разделения на ‘метропольную’ и ‘эмигрантскую’, обрела глобальность и в лучших своих образцах устремлена на возвращение стране человеческого облика” (Сергей Юрьенен, с. 194). И по другому поводу: “Спрос на электронные книги растет, но бумажные читают и продолжают читать, особенно эмигранты и люди преклонного возраста” (Лиана Алавердова, с. 233). “Литература утратила ту духовную и общественную роль, которую всегда играла в России” (Владимир Порудоминский, с. 292). Из высказываний покойного Олега Коростелева, знатока эмигрантской литературы и поклонника Георгия Адамовича: “В эмигрантской литературе одним из самых важных и привлекающих читателя жанров была критика. Георгий Адамович, Владислав Ходасевич, Владимир Вейдле, Петр Бицилли, Дмитрий Святополк-Мирский — все это замечательные критики, которые были бы гордостью любой литературы. Блестящие стилисты, тонкие умные, невероятно начитанные” (с. 306). Нам бы так! И заключительный аккорд. Вопрос: “Есть ли у литературы эмиграции будущее?» Ответ (напомню: москвич Олег Коростелев был заместителем директора Института мировой литературы Российской Академии Наук, заведующим отдела “Литературное наследство”): “Хотелось бы надеяться: нет. Имею в виду, что эмигрантская литература к концу XX века стала литературой русского зарубежья, и, дай бог, ей не придется снова переходить на эмигрантское положение. А в XXI веке литература русской Калифорнии или Аргентины продолжает оставаться такой же естественной частью единого литературного процесса, как сибирская проза или уральская поэзия” (с. 317).
В книге 31 глава (к сожалению, я коснулся не всех), а в конце помещено интервью Ирины Чайковской с автором. Интервью — труднейший жанр. Цейтлин знает о своих героях всё: читал все их книги, помнит мельчайшие изгибы их пути (тяжелые моменты, сомнения и успехи). Один из очерков посвящен Белле Езерской, первому в послевоенной эмиграции большому мастеру этого жанра. Задавать вопросы, особенно банальные, — дело нехитрое. (“В юности Вам больше нравились блондинки или брюнетки? А сейчас? Вы так много пишете, а читать Вы успеваете? Ваш последний роман переведен на тринадцать языков. Ах, на пятнадцать! Поздравляю! И каковы Ваши планы на ближайшее будущее?”). Вопросы должны провоцировать умный ответ. Интервью — это дуэль двух опытных стрелков. “Главное, как всегда, — талант, личность автора” (с. 150). Вот это я и хотел сказать об авторе книги “Писатель на дорогах исхода”.