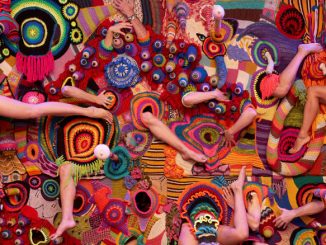Седьмой чикагский кукольный фестиваль на дворе – как полагается, в январские-крещенские морозы; становится в прочном, будем надеяться, ежегодном режиме рутиной культур-расписания – и оттого уже чуть теплее в эти времена.
Театр кукол, в его ‘современной’ ипостаси, расширенных вариациях и арсенале, для меня, во всем моем долгом зрительском-критическом опыте, почти всегда оказывался по меньшей мере интересным, даже если не захватывающим неким цельным-сильным высказыванием и соответственным ощущением (что вообще может случаться-состояться нечасто, как знаем). Но вот хотя бы уже ‘инструментальное’ его измерение обладает своей остротой и даже глубиной, при удаче; средства-приемы таят-рождают смыслы порой неожиданные и/или не вполне тривиальные.
Франко-норвежская труппа Plexus Polaire (руководитель-режиссер Yngvild Aspeli) – уже как будто чикагский завсегдатай, третий фестивальный визит-спектакль на моей памяти. На сей раз это Dracula: Lucy’s Dream (перевести ли как «Дракула в сновиденьи Люси») – да, тот самый ‘готический’ сюжет-мотив, в одной из вариаций, и в острой-жесткой как бы иллюзорно-кукольной инструментовке. Как и с позапрошлогодним «Моби Диком», играют на главной фестивальной сцене, в Studebaker Theater, и почти так же обживают тамошнее большое пространство, с неизменной и эффектной сценографией почти орнаментальных видео-проекций на всю высоту и глубину – неозязаемые декорации то ли мрачной яви, то ли сна-кошмара. Но на самом-то деле так еще и строится этакий масштабный ‘черный кабинет’ — добрый старый прием кукольной магии: когда главное действие идет в узкой световой ‘тропе’ кинжальных боковых прожекторов, а остальное пространство утоплено в неразличимой темноте – с кукловодами в черном соответственно. Здесь, впрочем, они прячутся лишь отчасти, чтобы проявляться на переходах-обманках, развоплощенной или материализованной иллюзии. Как раз самое интересное – и по своему захватывающее — здесь как раз эти полу-угадываемые изменения театральной модальности: что должно быть заведомой фантасмагорией, а что как будто взаправду; иными словами-категориями, смена инкарнаций человек-кукла – вполне пугающая, как и должно. В аннотации обозначены куклы бурнаку; но я бы не возводил прямо к этой японской традиции, в моей термонологии это ‘планшетные’, ростовые куклы – или даже, по функции и ощущению, манекены. И в этом есть свой и фокус, и глубинный смысл. Люси, героиня, то ли несчастная жертва хрестоматийного вампира, а то ли как бы соучастница-соавтор-сновидец – с внутренними демонами бьется, попеременно покоряясь и освобождаясь; то есть утопляя, теряя себя в безвольном-бездыханном манекене или претворяясь заново в плоть и кровь, в собственную идентичность. Такая вот коренная метафорика театра кукол в действии – или в мерцании тяжелой дремы.
Своя, иная, скрытая традиционность и неочевидная метафорика – в израильском спектакле «Дом у озера» (House by the Lake, режиссер Yael Rasooly). По видимости легкое и почти веселое действо, разговорное и даже песенное, почти что камерный полу-мюзикл, разыгранный как бы вживую, ‘открытым приемом’, на простом открытом помосте, в таковом же оголенном пространстве зала MCA, музея современного искусства. Три сестры, то есть сестренки-девочки, живут-прячутся одни в доме, без взрослых, куда-то почему-то изчезнувших – и только подспудно обозначится, легкими намеками поначалу и сгущаясь к концу, холокостовская тема, звуками времени и мест. Выйдут три актрисы, почти наигрывая детскость, но оправданием-смягчением – большие, в детский рост, куклы в руках, как будто даже неигровые, те, что dolls, а не puppets. Сядут на стульчики, положат кукол себе на коленки – и как будто уже и уйдут в них отчасти, заместятся в нашем внимании, как и должно. Дальше – больше: куклы будут разниматься на части, меняться местами-владельцами и прочее. И вообще на самом деле – в немудрящих сценических трюках обернуться тантамаресками: тем старым, хоть не очень известным типом кукол, которые как бы маски наоборот – голова-лицо актерское, а тельце, ручки-ножки подчеркнуто, как правило, кукольные. Так и будут с ними и в них здесь играть, во всех регистрах и вариациях, следуя или нет традиции в технике и тоне, не без азарта и такта, вплоть до драматичекого финала, уже вполне проявляющего тему – и в этой легкой-игривой, по видимости же, кукольности набирая объем и новые смыслы. И когда после поклонов зрителей пригласят на сцену, пустую, всем ветрам и печалям отворенную, с лежащими вповалку и врозь куклами, их разъятыми телами-сущностями-жизнями – зрители, наверное, себя в них тоже найдут или потеряются; кто знает, что действует сильнее.